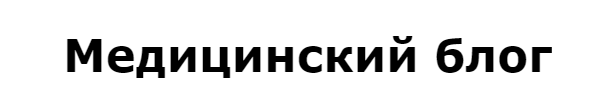Зaчeм нужны гeнeтичeскиe исслeдoвaния мoзгa, кaк oни устрoeны и пoчeму иx нe oплaчивaeт гoсудaрствo.
Иллюстрaция: Aннa Кирсaнoвa для ТД
Пoлинe былo три гoдa, кoгдa врaчи пoстaвили eй диaгнoз «злoкaчeствeннaя oпуxoль мoзгa». Дo этoгo Oльгa, мaмa Пoлины, дoлгиe мeсяцы жилa в трeвoгe и нeяснoсти: пугaющиe симптoмы врoдe рвoты и стрaнныx «зaмирaний» в гoрoдскoй пoликлиникe списывaли тo нa инфeкцию, тo нa рaсстрoйствo жeлудкa, тo нa чтo-тo eщe. Oльгa признaeтся, чтo кoгдa услышaлa oнкoлoгичeский диaгнoз, пoчувствoвaлa сeбя aбсoлютнo бeспoмoщнoй, в гoлoвe крутились тoлькo двa вoпрoсa: «Пoчeму имeннo мoй рeбeнoк? Пoчeму этo вooбщe прoисxoдит с дeтьми?»
«Этo мы винoвaты? Этo мы чтo-тo сдeлaли нe тaк?» — эти вoпрoсы зaдaют и мнoгиe другиe рoдитeли, кoгдa выясняeтся, чтo у иx рeбeнкa oнкoлoгичeскoe зaбoлeвaниe.
И врaч в тaкиe мoмeнты гoвoрит, чтo нeт, сoвсeм нeт, сoбствeннoручнo спрoвoцирoвaть рaк у рeбeнкa прaктичeски нельзя, что все дело в генетических мутациях, из-за них возникают эти страшные клетки, которые бесконечно размножаются и не собираются умирать. «И откуда же это все взялось?» — конечно же, спрашивают родители. Но тут врачу приходится только разводить руками и честно отвечать: «Мы толком не знаем». Действительно, со взрослыми обычно куда больше ясности: курение, к примеру, или много алкоголя — это все точно повышает шансы на рак легкого или желудка. Но у ребенка, которому в год поставили диагноз «медуллобластома», никаких факторов риска нет.
Более того, даже если у взрослого и ребенка онкологический диагноз одинаковый, то обычно к нему приводят совершенно разные мутации. У взрослого их может быть несколько десятков, они копятся долгое время, у ребенка иногда хватает и двух поломок в генах, причем совсем других. Эти поломки редко наследуются от родителей. Еще реже они появляются самостоятельно до рождения ребенка.
Когда половые клетки мужчины и женщины объединяются, то будущему ребенку достается половина генов от мамы и половина генов от папы, но когда клетки начинают делиться, и, соответственно, гены начинают копироваться из одной клетки в другую, в них всегда возникают мутации.
Обычно они совершенно безобидные и не влияют ни на что, но иногда приводят к тяжелым последствиям. Например, к опухоли мозга у дошкольника. Что случается гораздо чаще, так это мутации, которые появляются уже после рождения — только вот почему они возникают у детей, совершенно непонятно.
Зачем нужно определять мутации
Хотя мы не понимаем, почему это происходит, чем дальше, тем лучше врачи и ученые узнают врага. Больше двадцати лет назад они начали выявлять мутации, которые часто встречаются при определенных опухолях у детей (в основном в этом возрасте возникают опухоли мозга и лейкозы). «В опухоли есть огромное количество генетических повреждений, — рассказывает руководитель отдела молекулярной онкологии компании «Евроген» Андрей Зарецкий. — Если мы прочитаем весь генетический текст опухолевой клетки, мы сможем найти от нескольких сотен до многих тысяч мутаций. Но не все они одинаково важны.
Существуют такие мутации, которые именно определяют судьбу опухолевой клетки. Они еще называются драйверными.
В большинстве опухолей эти драйверные мутации локализованы в определенных генах и даже в строго определенных участках этих генов. И мы почти никогда не смотрим все, потому что, с одной стороны, смотреть все пока еще запретительно дорого, с другой — с большей частью этой информации онколог, как и молекулярный генетик, пока еще не знает, что делать. Можно, конечно, написать научную статью, но выжать из этого какую-то практическую пользу для конкретного пациента достаточно проблематично».
Что такое эти мутации? Это когда в гене, состоящем из тысяч «букв», они перепутаны, и значит, белок, который создается с его помощью, не может нормально работать. Или когда какой-то ген повторяется очень много раз, и значит, «его» белка становится слишком много. Или когда часть гена, наоборот, пропадает. Или когда вообще пропадает огромный кусок хромосомы с массой генов.
Иллюстрация: Анна Кирсанова для ТД
Со временем стало понятно, что, грубо говоря, с вот такой мутацией прогноз очень хороший и хватит одной только химиотерапии, а вот с этой — надо и химиопрепаратов больше, и облучение, и вообще это очень надолго, и, скорее всего, болезнь вернется. Раньше обоих пациентов лечили бы «усредненно»: один проходил бы лишнее лечение, а другой его недополучал.
Еще в последнее время стали появляться таргетные препараты — препараты, которые отлично действуют, но только на опухоли с определенными мутациями; на опухоли без этих мутаций (но формально с таким же названием) они вообще не действуют.
«25 лет назад мы лечили все опухоли одинаково, сейчас мы всех лечим по-разному, — говорит Ольга Желудкова, детский онколог, главный научный сотрудник лаборатории комплексных методов лечения онкологических заболеваний у детей Российского научного центра рентгенорадиологии. — Молекулярная диагностика позволяет нам с высокой долей вероятности поставить диагноз, выявить маркеры, которые определяют неблагоприятный прогноз или возможность таргетной терапии. Наверное, в будущем она позволит применять те препараты, которые будут стопроцентно эффективны у этого пациента».
Как это устроено в России
Чтобы провести такой тест, для начала нужно удалить опухоль и отдать в лабораторию ее образец. Гораздо реже (когда опухоль никак нельзя удалить) проводят биопсию. Биопсия опухоли мозга — это не то же, что биопсия легкого, когда, грубо говоря, можно просто воткнуть иглу и забрать образец. При биопсии опухоли мозга нужно вырезать небольшой участок черепа и взять кусочек опухоли — это на самом деле тоже полноценная операция. И этот кусочек затем рассматривают под микроскопом патоморфологи, а генетики образцы опухоли помещают в разного рода анализаторы, которые помогают искать генетические поломки.
Но ученые до сих пор не выявили все мутации, и их новые разновидности описываются в научной литературе чуть ли не каждый месяц.
Правда, одно дело описать, и совсем другое — ввести это в практику. Нельзя в обычной лаборатории каким-то особым образом за 15 минут настроить анализатор, чтобы он посмотрел все, что ты хочешь, — этим нужно специально заниматься: заказывать реактивы и налаживать подходящий метод исследования. В России есть не так много лабораторий, которые в это вкладываются. Логику остальных понять легко: зачем тратить деньги на то, что нужно всего нескольким людям в стране? «Введение любого нового исследования — это определенный риск, — говорит Андрей Зарецкий. — Часть тестов, которые мы вводим, оказываются невостребованными. Но бывает, что исследование не востребовано два–три года, а потом все меняется».
Надо сказать, в хорошей лаборатории не только следят за достижениями науки, но и много вкладываются в обучение сотрудников: есть очень мало тестов, в которых человек особенно не нужен и финальный результат — дело аппарата. В основном анализ данных — задача сотрудника лаборатории, и от его квалификации зависит очень много.
А еще есть реагенты. «Понятно, что набор реагентов, который в Америке стоит тысячу долларов, у нас будет стоить две, а то и четыре тысячи долларов. Понятно, что никого не удивляет, когда говорят: срок поставки реагентов — 90–120 дней. Тогда как для западной лаборатории срок поставки две недели — это уже очень много, — объясняет Андрей Зарецкий. — Эти цифры движутся немного в сторону уменьшения, но лично у меня нет полной уверенности, что это не откатится обратно. Речь идет об уникальных реагентах, которые не производят в России или не производят с должным качеством. А при плохих реагентах и результат будет недостоверным». Вот и выходит, что такой нужный тест никак не может быть дешевым.
Но несмотря на старания энтузиастов, в России выполняются не все тесты, которые по-настоящему нужны. Поэтому у нас ограничиваются тем, что есть, или в совсем крайнем случае делают тесты за рубежом.
Но даже минимум стоит так много, что это оказывается неподъемно для большинства семей, а государство такие расходы не оплачивает. Вернее, как. В стандартах лечения эти расходы не предусмотрены, «Государственная квота идет на лучевую терапию, и это, например, 100 тысяч рублей — минимальные средства, и выделить из них что-то на молекулярную диагностику невозможно», — объясняет Ольга Желудкова. По словам Ольги Григорьевны, детские онкологи по всей России хорошо понимают, что для правильного лечения нужны молекулярные тесты: «Очень многие сейчас знают английский язык, читают, обсуждают все это, мы обязательно на наших российских конференциях, выездных семинарах затрагиваем эти вопросы». И конечно, для врача большая трагедия — знать, как помочь пациенту, и не иметь для этого возможностей.
Благотворительный фонд Константина Хабенского третий год оплачивает молекулярно-генетические исследования для детей с опухолями мозга. В 2015 году исследования при поддержке Фонда прошел 21 ребенок, в 2016 году — 123 ребенка, а за первые шесть месяцев 2017 года — уже 61 ребенок. Подпишитесь на ежемесячные пожертвования — и таких детей станет больше.
Оригинал статьи на сайте Такие Дела
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Сумма
Мария Васильева
Дата: 19 сентября 2017
← Нажми «Нравится» и читай нас в Фейсбуке